30 ноября не стало Андрея Николаевича Балдина. Как пишут в таких случаях, после тяжелой и продолжительной болезни. Было ему 59 лет.
Андрей родился и вырос в нашем городе в семье известных врачей — хирургов. Закончил 2-ю школу, потом — Московский архитектурный институт и последние 40 с лишним лет своей жизни прожил в Москве. Став известным художником, архитектором, книжным иллюстратором, а впоследствии и самостоятельным писателем, он несколько своих книг посвятил этому городу, в частности, «Московские праздные дни», «Москва. Портрет города».
В 2009 его книга «Протяжение точки» стала одним из лауреатов литературной премии «Большая книга».
Андрей много печатался в толстых журналах, более всего — в «Октябре». Его книги и эссе были посвящены истории, архитектуре, великой русской литературе. Иногда то, чем занимался, он называл метагеографией или метафизическим краеведением. Это, конечно, игра слов, но есть в них и смысл, по крайней мере его взгляд на многие вещи не спутаешь ни с чьим другим. Идеи его были весьма оригинальны. Например, проследить последние дни жизни Льва Толстого, причём в те же календарные дни, по тому же маршруту от Ясной Поляны до Астапова. — А вдруг такое буквальное следование откроет путешественникам что-то до тех пор сокровенное? Или — повторить путь Чехова на Сахалин. Обе эти идеи, также как и многие другие, были им реализованы.
Для жителей Сарова Андрей Балдин, конечно, прежде всего архитектор церкви св. Пантелеймона на Маслихе.
Как истинного «птенца гнезда Сарова» (© А.А. Ломтев) Андрея продолжал интересовать наш город, его прошлое и будущее.
В нулевые годы, на фоне упадка оборонной отрасли было модно придумывать концепции развития Сарова. Тогда появлялись проекты Сарова как университетского города, города открытой науки и т.д. и т.п. Андрей часто бывал в числе приглашённых специалистов на этих мероприятиях, а студенты МАрхИ под его руководством вычерчивали корпуса будущего Саровского университета.
Эссе «К концепции истории Сарова», которое мы хотим предложить читателям сайта, было написано Андреем Балдиным в 2007 году. Оно явилось плодом его долгих и глубоких размышлений, будучи ярким примером применения его «метагеографического» метода. Мне неизвестно, опубликовал ли Андрей его каким-либо образом, полностью или частично, в таком виде или в переработанном. В приведённом ниже варианте оно сохранилось в моём архиве.
Вот примеры книг, написанных и/или проиллюстрированных Андреем. Это только те, что есть у меня в библиотеке.
Андрей Балдин
К КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИИ САРОВА
История Сарова существует в отдельных фрагментах — ярких, конфликтных, трудно стыкуемых между собой.
Где-то в глубине веков, где можно различить начало города, обозначена — только обозначена — история крупного городского центра домонгольской эпохи, несостоявшейся столицы лесной мордвы. Это своего рода остров во времени, с которым нет связи: замкнутый и при этом весьма важный исторический сюжет.
Археологические раскопки в Сарове начались только в 1993 году. Ранее их не позволял проводить режим строгой секретности и понятная зацикленность городских властей на вопросах оборонного задания. Бомбоделам было не до археологии. Интересно то, что сегодня, когда территория древнего городища перешла под ведомство восстанавливаемого монастыря, исследование вновь приостановлено. Теперь на его продолжение требуется санкция церковных властей, которые, в свою очередь, заняты восстановлением обители и не заинтересованы в раскопках, отворении культурных слоев, самом присутствии ученых экспедиционеров на своей территории. Монастырю нет надобности в до-монастырской, тем более языческой истории, — возникают новые умолчания и разрывы. История Сарова остается дискретна и, по сути, не исследована.
Собственно монастырский сюжет (вторая половина XVII — начало XX вв.) замкнут в жесткие хронологические рамки и, в свою очередь, отрезан от современной истории Сарова. Сегодня, после восстановления обители, этот сюжет продолжен, но продолжен как будто в другом пространстве, вне города; он имеет вид исторической «капсулы», имеющей мало связи с окружением и готовой со временем закрыться еще крепче.
История ядерного центра — еще одна «капсула» истории, по понятным причинам до сих пор не распакованная. Ее нельзя назвать историей в строгом смысле слова, она существует скорее как хроника событий, из которых половина засекречена. Но и такая, наполовину проговоренная хроника уже сейчас замкнута сама в себе. Когда-нибудь она будет прописана до конца, — и, скорее всего, окажется так же концептуально и формально закрыта. Нарисуется очередной остров истории, никак не связанный с другими саровскими сюжетами-островами.
История Сарова вся состоит из подобных «капсул». Они самодостаточны, сосредоточены каждая в своем времени — они сами себе история. Между этими значительными и яркими фигурами — разрывы и умолчания.
Целостной истории Сарова не существует. Фундаментальное историческое исследование, которого, несомненно, заслуживает это необычное место, до сих пор не проведено. Между тем это исследование необходимо Сарову, — именно сегодня, когда город впервые в своей истории стремится объединить фрагменты своего прошлого.
Сарову нужна целостная и связная история. В противном случае ему грозит концептуальная и ментальная деструкция: распадающиеся «капсулы» прошлого неизбежно разведут составные части города по разным углам.
Мы исходим из положения, что единый, связный исторический сюжет Сарова существует. Это история на порядок «большая по размеру», историческая система, способная объединить конфликтные «островные» составляющие Сарова в некоем общем пространстве. Вопрос в этом большем пространстве. Что такое это помещение во времени? Что такое большая по знаку сложности историческая система?
I
Если рассматривать историю вопроса в хронологической последовательности, то первые признаки некоей скрытой системы можно обнаружить в первом же очерке древнерусской карты. Той карты, на которой впервые как активные агенты появляются Москва и Мордва.
Две эти финно-угорские территории располагались симметрично относительно определенной, ясно читаемой оси. Эта ось — нижнее течение Оки, вдоль которой в северо-восточном направлении росла Киевская Русь. Ока представляла собой сквозной транзит от Киева и Чернигова к Волге. По обе стороны от этой оси располагались финские лакуны, долгое время остававшиеся «нераспакованными» русскими мигрантами: по левую руку московская и по правую схожая с ней рязанско-мордовская.
Это сходство, — пока на уровне модели, — следует признать существенным. Обе территории имели свои центры, спрятанные, потаенные столицы: левобережную, ту, что впоследствии стала Москвой, и симметричную ей правобережную — крупный центр в глубине лесной Мордвы, то, что было оформлено с течением времени, как Саров.
В этом состояла их существенная симметрия. (По некоторым данным, саровский центр был большим, и, возможно, старшим по отношению к московскому: это было крупнейшее из всех известных финское поселение в этой части России).
В дальнейшем мы можем наблюдать два «зеркальных» сюжета: рост и развитие Москвы, ее преображение в результате включения в общее культурное и политическое пространство Руси, — и существование вне этого пространства, в характерном герметическом состоянии ее заокского оппонента, Сарова.
Далее обе столицы, Москва и «минус-Москва», подпадают под влияние Орды (обеим были посвящены отдельные военные акции ордынцев). При этом Москва в определенном смысле выиграла в результате сложного диалога с Ордой; находясь в зоне ее влияния, она постепенно выдвинулась в качестве русской столицы. В то время как правобережный центр после монгольского разорения XIII века, по сути, прекратил свое существование.
Есть версия, что на его месте располагался татарский город Сараклыч. Однако эта версия имеет столько же доказательств, сколько опровержений. Следы этого города-фантома разбросаны по обширной окрестности Сарова.
Так или иначе, по сравнению с растущей Москвой это место оставалось показательно пусто.
При этом Москва как будто помнила о существовании древнего Сарова; ее отношение к нему, ко всему обширному «зазеркалью» за Нижней Окой можно определить как молчаливое и осторожное наблюдение.
В дальнейшем, освободившись от Орды, двинувшись в своем росте далеко за исходные пределы, Москва последовательно обходила эту территорию: не военная — Мордва была завоевана давно, — но духовная русская миссия не распространялась на эти заповедные места. По-прежнему Ока в своем среднем течении представляла собой некую важную (внутреннюю) границу страны; Москва только заглядывала через нее. Главным ее наблюдательным пунктом был Муром.
Муром и теперь узнаваем в роли русского форпоста — высокий левый берег смотрит на восток далеко поверх обширного мордовского «моря».
Здесь важно отметить не просто внешнюю симметрию, не одно только историко-географическое сходство двух этих мест, но их скрытое ментальное родство. Москва в средние века оставалась в значительной мере языческим городом. Это сказывалось в ее градообразующих, социокультурных, культовых предпочтениях, в том, как она оформляла себя и пространство вокруг себя. Сказывалось то, что можно было бы назвать финской матрицей — однажды от нее отпечатавшись, Москва в дальнейшем повторяла ее изначальный характерный рисунок. Ее православие в те времена было в определенной степени поверхностно, оно мало изменило древнюю стилеобразующую основу Москвы.
Возможно, в этом кроется некоторое объяснение осторожности Москвы в отношении своего древнейшего оппонента. Сказывалось своеобразное табу, в природе которого только предстоит разобраться, — запрет на присвоение родственной (возможно, старшей, и потому неприкасаемой) территории.
Можно оставить за скобками соображения о сакральной составляющей этого явления (умолчания Москвы о Мордве) и ограничиться наблюдением за характерными природными особенностями саровских мест. Обширная область непроходимых лесов, протянувшаяся по широте от Оки на восток на несколько сотен километров, долгое время составляла естественную преграду для любого рода контактов, мирных или военных. Эта часть Мордвы была самой природой замкнута в «медвежий угол», который обходили завоеватели, — как южные и восточные (крымцы и ногайцы), так и московские, перешагнувшие эти леса в своем движении на восток. На этом фоне многое становится объяснимо в истории долгой изоляции лесной Мордвы.
Однако в свете дальнейших рассуждений о перипетиях христианизации этого края имеет смысл оставить во внимании весь круг соображений, в том числе касающиеся конфессиональных конфликтов, запретов и табу.
Так или иначе, но, двинувшись в своем росте и достигнув к середине XVII века Тихого океана (!) Москва все не могла приступить к христианизации Мордвы. Она по-прежнему словно бы «опасалась» Нижней Оки, как некоей заветной границы, и только заглядывала за нее, как если бы за рекой в глубине леса ей открывалось опасное зеркало. В этом зеркале Москва могла наблюдать свое древнее подобие, — финскую столицу, центр языческой территории, живущий согласно собственным духовным законам.
По этой ли, или по другой причине, но эти «запретные» места долгое время оставались в духовном плане не освоены Москвой.
II
Ситуация изменилась, когда в середине XVII века к России была присоединена Украина. (Казачий старшина Поярков был уже на Сахалине, а Саров все еще пребывал от Москвы «за границей», втуне). Союз с Киевом изменил интеллектуальный пейзаж Москвы; появились новые люди и идеи, касающиеся, в частности, формы и методов русской православной [цивилизационной] миссии. Наступил следующий этап христианизации страны.
Это прямо коснулось «запретной» страны за Окой и ее разрушенной языческой столицы. Перемены в Москве означали, что Россия совместными усилиями патриарха Никона и «новых киевлян» начинает заполнение тех лакун и пустот, что оставила после себя первая волна христианской колонизации. Пустота в центре некрещеной мордвы была ближайшей к Москве; в самом скором времени здесь начались показательные преобразования.
В конце XVII века на развалинах языческого городища появились первые монахи, которые по образу и подобию киевских пещер начали строительство нового монастыря, Сатисо-градо-Саровской пустыни.
Очень важен этот знак Киева; новые миссионеры действовали согласно логике, существенно отличной от старомосковской. Здесь условно ее можно назвать пространственной. Для ее носителей не имело силу табу, удерживавшее средневековую, хранящую следы язычества Москву от вторжения на заветную территорию. Реформаторы двигались в пространстве, раздвигали единое христианское помещение, собирая в одно целое дискретные очаги московской святости.
Киев, и непосредственно вслед за ним Петербург определили новый модуль русской миссии. Финскую матрицу потеснила новая, европейская — сумма пространственных ментальных предпочтений.
Это вызвало масштабный мировоззренческий конфликт, раскол, разрыв измерений в чертеже бытия: три против двух.
III
Пока эти схемы, счет измерений на пальцах, попутные анимации (Москва проснулась, заглянула за Оку, остановилась в нерешительности) — носят характер предварительный. Но за ними кроется некая важная сущность, нуждающаяся в положительном пояснении. Москва «оживает» или «засыпает» вследствие процесса объективного: так суммируются характерные для эпохи предпочтения, способы видения и рефлексии по поводу увиденного.
Образы пространства весьма действенны; ментальная матрица или социокультурная (здесь сакральная) константа, продуцирующая эти образы, действенна вдвойне. Это ее действие необходимо рассматривать последовательно и внимательно; без учета этого действия многое в истории Сарова останется не расшифровано, в виде набора замкнутых «капсул», отрезков истории, не имеющих между собой внятной связи.
Итак, новые миссионеры перешли «запретную» границу Оки. Точнее, они отодвинули границу двух миров вглубь Мордвы, — от Мурома до Сарова. Теперь по Сарову прошла граница пространств, — на разломе верований и культур возник Саровский монастырь.
Уже в силу этого его начало было конфликтно. Но в данном случае, в дополнение к понятному внешнему (языческому) отторжению, монастырь оказался в поле внутреннего (христианского) спора. За спиной Сарова спорили две столицы, старая и новая, Москва и Петербург. Не просто две политические партии — два образа мысли, два больших стиля, два конфликтных образа пространства воевали между собой. Эхо этой борьбы докатывалось до Сарова довольно скоро. Тем более что к нему было привлечено постоянное (не всегда афишируемое) внимание центра.
Это важный акцент, возвращающий нас к рассуждению о значимости духовной составляющей в истории Сарова.
Саровский монастырь, в известной мере наследуя исчезнувшей финской столице, удерживал центр обширной территории, не совпадающей своими границами с общей нарезкой губерний. Теперь это был православный духовный центр, заместивший, закрывший собой древний языческий. Это учитывали в Петербурге и Москве, потому и следили за происходящим в обители с возможным вниманием. Считалось, что в Саровском монастыре действует «Академия русского монашества»; ее выпускники были востребованы по всей России. Настоятели многих российских монастырей, в частности Валаамского, были воспитаны здесь.
Неудивительно, что статус монастыря был высок: Саров являлся важным форпостом христианской империи, заступившей на «вражескую» (языческую) территорию, в самое ее заколдованное лоно. Здесь прошла граница, разделяющая два мира, мыслящих и обустраивающих себя по-разному. С севера, со стороны Арзамаса к этой границе подступало регулярное (петербургское) пространство; в этом месте оно как будто образовывало «балкон» — к югу простиралась иная земля, море леса, непокоренная, некрещеная мордва.
IV
Наиболее ярко эта граница обозначилась во время пугачевского восстания (1773—1775). В тот момент здесь прошел открытый фронт между империей Екатерины и «царством» Пугачева. Бунт дошел до этих мест; это было логично: восстание во многом опиралось на силы поволжских язычников. Одна из ставок («столиц») Пугачева, самая северная, ближайшая к Москве, некоторое время располагалась в Саранске.
Бунтовал весь юго-восток европейской части России — та нижняя, инакомыслящая половина мира, что открывалась с арзамасского «балкона» и подходила к самому порогу Саровского монастыря.
Это отчетливо понимали в Петербурге. После подавления восстания этот край был переведен под особое управление императрицы Екатерины. В Нижний и Арзамас был высажен своего рода гуманитарный десант; сюда были направлены образованные государевы люди из обеих столиц: землемеры, картографы, строители. (Среди них был Иван Лобачевский, отец знаменитого математика.) Задачей столичных людей было укрепление невидимой арзамасско — саровской границы.
Деятельность столичных «десантников» обеспечила Арзамасу и окрестностям уникальный культурный контекст. Здесь заканчивался русский Рим, Европа, просвещенная, цивилизованная земля. Литературное явление «Старого Арзамаса» непосредственно с этим связано: вслед за землемерами и картографами столичные литераторы символически обозначили это место как форпост [городской культуры] России.
Восстание Пугачева обозначило эту внутреннюю границу наиболее резко и отчетливо.
После пугачевских потрясений Российская империя ускорила культурную и духовную экспансию в центре «запретной» территории Мордвы.
Именно в этот момент (декабрь 1778 года) в Саров приходит Прохор Мошнин, будущий великий святой Серафим Саровский. Его появление в это время и в этом месте было закономерно: церковь участвовала в мероприятиях Петербурга, укреплявшего после смуты имперские устои. Серафим был ее представителем: вместе со строителями Екатерины он обустраивал [христианское] пространство среди языческого леса.
Важно отметить его маршрут: он пришел из Киева.
Прохор был родом из Курска, там же получил духовное образование, после чего в Киеве был благословлен на духовную миссию в Сарове. Кстати, он был не первый курянин, отправленный в подобную «командировку». К тому моменту этот монашеский маршрут сложился вполне.
Так продолжался тот цивилизационный сюжет, в результате которого русская столица смогла перейти за окский сакральный предел. Серафим с самого начала выступал как миссионер, участник общего просветительского проекта, носитель городского пространства, которое вместе с новой Москвой транслировали в глубину России Киев и Петербург.
Это важное дополнение к традиционному образу святого. Обычно Серафим воспринимается как представитель леса, отшельник, ищущий уединения от города, живущий «против города». На деле он выступил в свое время как креститель леса, киевлянин, человек эпохи классики и ампира, действующий и молящийся «за город».
Постепенно обнаруживает себя сквозной сюжет саровской истории, хроника столичного роста, постепенного продвижения центра страны в противостоящую этому центру глубину провинции. Это движение можно трактовать как поэтапное завоевание Москвой своего древнего сакрального (финского) оппонента, или представить себе более приземленный сюжет, — постепенное освоение территории, закрытой в силу природных обстоятельств. В том и в другом случае это история духовной миссии, обладающая своей спецификой, для анализа которой предстоит существенно обновить инструментарий исторического исследования.
Пока можно отметить очевидное: смену цивилизационного приема, качественный переход в форме и содержании миссии, который состоялся на рубеже XVII — XVIII вв. и который позволил Москве сделать принципиально важный шаг за Оку, в глубину леса. В Новое время, когда вслед за Москвой христианскую миссию поддержали «пространствообразующие» центры, Киев и Петербург, Россия смогла сделать этот шаг, заняла духовный центр мордвы, чем была подготовлена почва для появления фигуры преподобного Серафима Саровского. Такого Серафима, которого мы знаем мало, — просветителя, миссионера, устроителя христианского пространства.
Так строится ось истории, обозначенная исходной финской рифмой — «Москва — Мордва», — один за другим нанизывающая разрозненные саровские сюжеты.
Это не означает исключительности Сарова или его реального равенства с Москвой. Русской столице по мере продвижения вглубь материка противостояли многие духовные и культурные центры. Москва и Петербург разрушали или поглощали, так или иначе трансформировали их, — каждая из подобных историй может претендовать на уникальность и особый подход в исследовании. Саров лишь один из таких центров. Его отличают природная закрытость места, близость к Москве и позднейший режим «совершенной секретности», превративший эти места в белое пятно на исторической карте России. Саров уникален в первую очередь как объект гуманитарного исследования. Осколки его истории сохранены в «первозданном» состоянии; они по прежнему противостоят друг другу — одно их наблюдение весьма поучительно.
V
Вернемся во времена молодого Серафима, миссионера и горожанина.
«Петербургское» духовное завоевание Мордвы, и с нею всего Поволжья, было акцией в высшей степени противоречивой. Обозначился масштабный ментальный и культурный разлом в духовном организме империи, который со всей силой сказался во время пугачевщины.
В логике этого сюжета появление преподобного Серафима выглядит как ключевое действие православной миссии в Мордве. Серафим предстает победителем — духовным строителем, сумевшим превзойти хозяев леса, побороть их, обратить в пространство. С этим связана всероссийская, а затем и вселенская слава его имени, его положение в первом ряду русских святых.
Таким был второй этап последовательного сюжета, путешествия русской столицы вглубь собственной страны. Условно, в качестве предварительного обозначения позиций, этот второй этап можно назвать «петербургским», имперским.
Также необходимо отметить определенное двоение цивилизационного приема в отношении Мордвы: модуль, характер, самый стиль, в котором действовали здесь поочередно Москва и Петербург, были показательно различны.
«Действовали поочередно»: проясняется ритм столичного движения, его контрапункт, обнаруживаются несовпадающие смыслы различных стадий экспансии, и вместе с тем прочитывается ее направленный общий ход.
VI
Еще о преподобном Серафиме, о его помещении в истории.
Мы не просто наблюдаем новый облик преподобного (молодой, «ампирный» Серафим, горожанин, курянин, киевлянин: это уже некоторое приобретение, обогащение его устоявшегося образа «лесного человека») — важно также и то, что Серафим, умерший в 1833 году, хронологически весь укладывается в рамки петербургского этапа саровской миссии.
Следующий этап начался двумя десятилетиями позже, после Серафима — это была принципиально иная эпоха. В противовес предыдущей, петербургской, ее можно обозначить, как окончательное воцарение Москвы в Сарове. Петербург сделал свое дело, отвоевал центральный (сакральный) участок у финского леса, — теперь на нем расположилась так долго этого ожидавшая Москва.
Колдуны и волхвы были потеснены; не так далеко — в глубине леса на территории ядерного центра есть урочище Кереметь, где, по версии саровских краеведов, была тайная мордовская кумирня. Лес был жив; древний сакральный центр продолжал действовать.
Лес составил для новой, «московской» эпохи, начавшейся после ухода Серафима, фон самый неравнодушный: Москва поместилась в привычное языческое лоно, только старейшее, и, возможно, сильнейшее по знаку излучения. Постепенно проступила, ожила, принялась брать силу древняя финская матрица.
И Саров как будто погрузился наполовину в до-петербургский, живой и сильный лес.
Опять-таки: можно обойтись без метафоры и констатировать понятное ослабление столичного миссионерского градуса: после пост-пугачевских перемен провинция постепенно успокоилась и стала поглощать, ассимилировать обустроенное «десантниками» столичное место.
Однако представляется, что этого простого объяснения недостаточно. Метаморфозы духовной жизни, начавшиеся в России с середины XIX века, — после Серафима, — невозможно объяснить одним только одушевлением провинции. Произошло изменение самого стиля жизни, характерного образа бытия, и, прежде всего, веры. Это было связано с целым комплексом больших и малых причин. Несомненно, в этом присутствовал некоторый протест против рациональных установок Нового времени, против Петербурга и его «Бога в пространстве»: новые веяния, обозначившиеся в 40-е годы XIX века, были в большей мере книжны, «беспространственны». Но именно это парадоксально сближало их с допетровской старой верой, возвращало в «двумерие» старой Москвы — и Мордвы. Поэтому метафора об оживлении колдовской лесной веры во второй половине XIX века в Сарове отчасти уместна.
Так или иначе, в силу одушевления языческого леса или ассимиляции в провинции, Саров в эту эпоху заметно изменился. Просветительский, «городской» акцент миссионерской деятельности если и не был отменен, то оказался существенно размыт. Пространство, отвоеванное Петербургом у мордовского леса, как будто убыло в сумме измерений. Возникло и выросло Дивеево: наследие преподобного Серафима, оформленное иначе, нежели классический, «городской» Саровский монастырь. Это было новое гнездо веры, не деревянное, но, скорее, деревенское — старомосковское.
Так после петербургских подвигов пришло умиротворение дошедшей до Сарова Москвы.
При этом произошло неизбежное: ампирный человек, киевский миссионер и пост-пугачевский подвижник Серафим — не сам он, но его образ — обрел устойчивый лесной фон. Это важный акцент: привычный нам лесной образ преподобного сложился именно в это время, в эпоху воцарения Москвы в Сарове, «возвращения» Москвы в финский лес.
Так продолжал развиваться базовый сюжет, который был заявлен в начале построений. Слились, совпали в общей сумме два древних центра, некогда разделенные осью Оки.
Москва включила в себя «минус-Москву», села на ее место, но при этом сама существенно переменилась. Оказалось, что ее саровский двойник жив. Сумма двух древних столиц составила противоречивое единство; Саров остался центром — духовным, потаенным, в значении своем определенно всероссийским (за деятельностью монастыря по-прежнему велся строгий надзор столиц), и вместе с тем показательно провинциальным, противупетербургским, беспространственным, — лесным.
Показательно, что именно в таком «лесном» стиле прошли знаменитые празднования по случаю канонизации преподобного Серафима в 1903 году. Это был характерный царский сюжет — московский, допетровский, до-пространственный.
Нетрудно усмотреть закономерность в смене столичного стиля на площадке Сарова.
Из леса в пространство, из него опять в лес.
Также нетрудно, уловив этот ритм, проследить его дальше.
VII
Дальше был разрыв времен — революция, вернувшая Москве всероссийский столичный статус.
Правда, при этом она перестала быть христианской столицей. Церковь подверглась гонениям, монастыри были закрыты повсеместно; в числе других был показательным образом разорен и большей частью уничтожен Саровский монастырь.
Можно предположить, что на некоторое время Саров остался без проекта, вне какого-либо столичного сюжета. Как специфическое, экстерриториальное место, возникшее в результате борьбы, движения, трансляции столиц, Саров оказался обессмыслен. Но это только на первый взгляд. Новая, безбожная Москва сохранила Саров в зоне своего внимания: это место становится центром (опять центром!) территории лагерей и колоний. В монастыре обосновалась детская коммуна, крупнейшая на всей территории СССР. Так сказалась закрытость древнего «медвежьего угла». Мордовские леса и теперь остаются средоточием исправительных колоний и лагерей.
Косвенным образом «столичность» этого нового Сарова подтверждает версия происхождения топонима Кремлев, выдвинутая исследователем саровской истории Алексеем Подурцом. Монастырь получил звание «кремля» у заключенных, — он и был кремлем их закрытой, запретной страны. Парадоксальным образом это ложится в заявленный нами сквозной сюжет истории Сарова как опосредованно столичной территории.
VIII
Новый большой проект, очередная столичная задача была определена Сарову сразу после Великой отечественной войны. СССР был поставлен перед необходимостью создания ядерного оружия. Потребовалась площадка для размещения ядерного центра — а) максимально закрытая, б) наименее удаленная от Москвы и в) обладающая определенной инфраструктурой.
Первые два пункта безошибочно указывали на Саров.
Пункту «в» место также соответствовало: незадолго до войны, в 1939 году здесь был построен машиностроительный завод Наркомата боеприпасов с соответствующими службами, к которому вела ветка железной дороги.
То есть: из одних только практических соображений это место подходило для решения поставленной задачи.
Но есть и другие соображения, стилистического, мифоустроительного плана. Сказалась традиция «столичного» места. Недаром эта новая площадка в первом варианте была названа Кремлевом (см. выше — наследие тюремно-лагерных времен). Это было очередное (закономерное) возвращение столицы в «столицу»: Кремль начал строить здесь город Кремлев, свое малое секретное подобие, закрытое от внешнего мира на семь замков, — классическая саровская ситуация.
Исходный цивилизационный сюжет (движение столицы в провинцию) был продолжен.
Остается наблюдать, насколько точно — до деталей — история строительства ядерного центра вписалась в уже определенный ритм «москвопетербургской» провинциальной экспансии. В этом контексте строительство ядерного центра в Сарове было акцией показательно «петербургской».
Империи потребовался новый град «на топи блат». В мордовский (финский) лес вернулось — именно так: вернулось — римское пространство.
Теперь очевидно: у современного города Сарова был в истории определенный екатерининский прототип. Пост-пугачевский, послевоенный. Так обнаруживаются связи, намечающие в перспективе общее целостное строение здешней истории.
Кстати, архитектурный проект города готовился в Ленинграде (Петербурге). Это было действие в духе Петра и Екатерины: классический слепок идеального города, квадрат, словно вырезанный ножницами, изъяли из столицы и переложили на новое место — в лес. По всей стране собрали лучшие кадры, обеспечили всем необходимым (первые переселенцы признавались, что ощущение было словно при переезде в другую, благополучную страну.)
Это напоминало историю строительства идеальной римской колонии. Рабов не было, зато были зеки, строившие город, и местные, мордва. Контраст существования был «античный».
Слово местные в среде колонистов имело уничижительную окраску; все местное было как будто второго сорта. Сам город существовал, мыслил, видел себя образованием первосортным. Первые горожане ощущали себя «римлянами», живущими в окружении «варваров». Для спеси было много оснований; дети свободных граждан были поражены этой болезнью более своих родителей. Это дало основание для мифа, действующего по сей день. Многие старожилы и теперь готовы рассказывать анекдоты той поры «про городских и местных». (Этот конфликт жив до сих пор, хотя и действует скрыто: граждане Сарова четко различают своих и пришельцев.)
Стиль послевоенного города был сталинский ампир: Империя раздвинула в пустыне идеальный квадрат пространства.
Столица вновь потеснила лес.
Остается только сетовать, что этот очевидный, закономерный, целостный, и, несомненно, существенно важный для истории России сюжет остается не проговорен, не исследован всерьез. Собственно, это подтверждает еще один закон этого «заветного» места: оно с самого рождения играет в прятки. Это закрытая столица, «минус-Москва», стоящая на глубоко спрятанной, невидимой, но по-прежнему действенной финской матрице.
В советское время, когда на город и окрестности был опущен колпак строгой секретности, этот закон «вечных пряток» был в очередной раз подтвержден.
Город остается в зоне перманентного исторического умолчания. Его замечательная кремлевская история по сей день остается не прописана.
IX
И вот сегодня этот «петербургский», научно-просветительский Саровский сюжет заканчивается.
Современное состояние Сарова представляет собой очередную — закономерную — иллюстрацию к теории «смены матриц» (имперской, городской на лесную, финскую). История совершает в этих местах очередной виток.
Империя отступает, имперский «Рим» уходит из Сарова. В город возвращается очередная «древняя», деревянная, деревенская эпоха — та, что ослабляет в городе каркас пространства, погружает его в лес. Это грозит знакомой ассимиляцией, окончательным погружением в провинцию, пространственной деградацией города.
В который раз повторяется саровский цикл: из леса в пространство, из пространства в лес. То и другое — действия столичные, поочередно петербургское и московское.
Парадокс в том, что нынешнее официальное оформление города Сарова приходится на противугородской, лесной период его характерного цикла. Город, возникая, рушится.
Ситуация парадоксальная: сегодня Сарову открыты все фрагменты своей истории. По идее, именно сейчас он должен развиваться как большее по знаку пространство, помещение существенно важного диалога эпох. Вместо этого ему грозит очевидная деструкция. Полярные фрагменты города — ядерный центр и монастырь — разделяет непреодолимая пустота. Это положение неустойчиво; «римляне», населяющие Саров, ожидают перемен к худшему. Кстати, их становится все меньше: провинция постепенно растворяет в себе фантом столицы.
История Сарова как большого столичного проекта, не написанная и толком даже не осознанная, грозит закончиться классическим варварским провалом.
Между тем перед нами история самая масштабная — ни в коем случае не региональная. Она логична, и, несмотря на все свои контрасты и разрывы, весьма последовательна. В ее основе лежит базовый сюжет, образно говоря, «перехода Москвы через Оку» — поэтапная хроника столичной цивилизационной миссии. Эта миссия сопровождается подъемами и провалами, осложняется перманентным ментальным конфликтом (столица — провинция, христианство — язычество и т.п.), но при этом сохраняет общую последовательность и логику.
На каждом ее этапе сказывается характерный феномен, то, что в настоящем очерке обозначено, как перемена столичных ментальных матриц: два образа пространства, две Москвы попеременно транслируются в Россию — здесь в Сарове эти трансляции показательно контрастны.
История Сарова противоречива, она видится разделенной на нестыкуемые фрагменты, но на деле эти фрагменты являются проекциями перемен в центре на характерную (стилеобразующую) финскую почву. Именно это и замыкает саровские «капсулы» истории, бесконечно удаляя их друг от друга. Такие команды дает Сарову Москвопетербург, попеременно вспоминая о нем и забывая, — и попеременно, остывая и оживая, под этим странным городом «работает» здешняя топкая почва. Это место по-прежнему на границе, на переломе ментальных измерений: его существование заведомо конфликтно и внутренне контрастно
Меняющийся, двоящийся центр налагает на Саров, на свое же отражение, блик в провинции, противоречивые формальные задания, постоянно воспроизводя и разрушая себя на его замкнутой территории.
Развилка, на которой сегодня обнаруживает себя Саров, представляет собой простой выбор, — между грамотным, «зрячим» подходом к его истории, и инерционным, «слепым» и уже поэтому безграмотным. Между университетом и варварством: еще одна классическая позиция. Сарову необходимо начинать серьезное гуманитарное исследование, — или так: Москве необходимо начинать исследование самое себя в провинции. Опытная площадка Сарова в этом контексте уникальна.
Первые же наблюдения показывают: история Сарова демонстрирует единый сюжет, масштаб и значение которого еще предстоит прояснить. Она обнаруживает ритм и большее пространство отечественной истории, — при том, что она, как и вся наша история, дискретна и конфликтна. В ней обнаруживается искомая, большая по знаку сложности историческая система, в которой отчетливо сказывается феномен двоящейся русской столичности и его потаенная сакральная составляющая, до сих пор в полной мере не исследованная.
И еще, что в настоящих условиях достаточно актуально: история города Сарова весьма жестко и наглядно обозначает возможность своего варварского обрыва. Тем более необходимо ее последовательное академическое исследование. В этом контексте площадка Саровского университета имеет не только социально-экономические перспективы, но также, в первую очередь, научно-исследовательские — федерально значимые — историко-философские, гуманитарные.



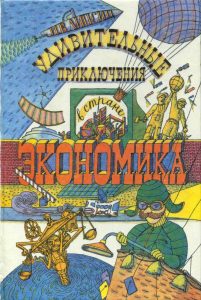

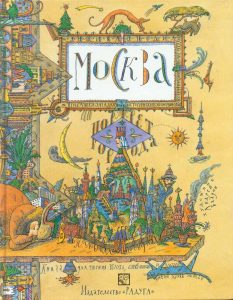
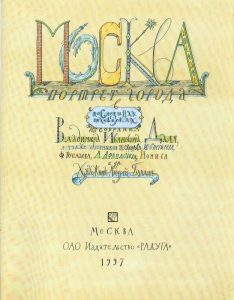

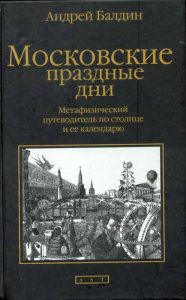

Если что-то не является наукой в точном смысле слова, то это не значит, что оно не достойно внимания. Академик Ландау говорил: «Любовь, например — не наука. Но что же в ней плохого?» Рассуждения Балдина заставляют задумываться о важных вещах. Это познание на уровне догадок и интуиции, мне кажется.
Извини, Алексей Михайлович!
Если бы ты СРАЗУ в заголовке указал, что ЭТА КОНЦЕПЦИЯ — ОПЫТ ЛИТЕРАТУРНОГО МЕТАФИЗИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ, я бы не «возникал»…
А так — просто НЕ ПОНЯЛ… Прости…
Лестно, конечно, считать себя «Четвёртым Римом», но это вряд ли принесёт нам какую-то пользу.
А приведённые рассуждения, напоминают чем-то исторические «исследования» Задорнова (который сатирик-юморист). Только изложенные для «псевдоинтеллектуалов». Неглупый человек изложил терминологией не из своей профессиональной области широкоизвестные факты. Плохого в этом, конечно, нет. Но и толка в этом — тоже не вижу. Гораздо лучше у него получалось рисование — мне, например, его оформление книг понравилось. Да и церковь неплоха.